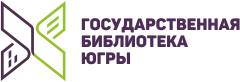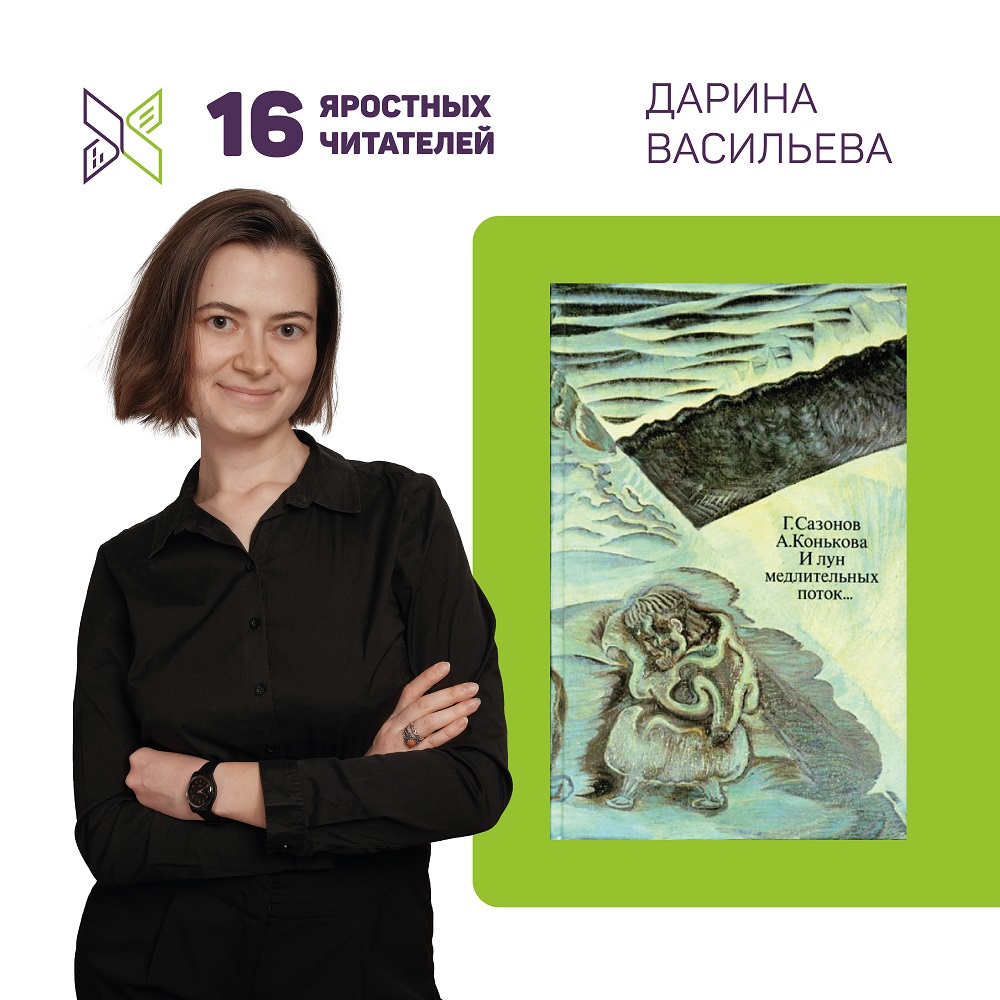16 яростных читателей на связи: рецензия на книгу Геннадия Сазонова и Анны Коньковой «И лун медлительных поток…»
Продолжаем рассказывать о прочитанном!
Сегодня Дарина Васильева делится впечатлениями о книге Геннадия Сазонова и Анны Коньковой «И лун медлительных поток…».
Книжный отзыв от Дарины Васильевой.
Редкие книги югорских авторов выходили в крупных издательствах. Значит, люди из других мест, с другими традициями и взглядами, возможно, никогда и не бывавшие в Югре, нашли что-то ценное в произведениях.
Роман Геннадия Сазонова и Анны Коньковой особенный еще и потому, что написан людьми разных культур – русской и мансийской. В моем представлении двум творческим личностям сложно создать что-то завершенное. Но у Сазонова и Коньковой все получилось.
«И лун медлительных поток…» вышел в 1982 году в Екатеринбурге. Я читала дополненное переиздание 1990 года. Планировалась вторая часть, но Геннадий Сазонов ушел из жизни.
Текст кажется небольшим, 264 страницы. Но поначалу давался мне очень непросто, будто я пробираюсь через заросли кустарников. Тут и там встречались незнакомые слова, сносок не было, и я не сразу поняла, что в конце книги есть словарик. Со временем я подстроилась под темп повествования, освоилась в лексике и множестве имен персонажей и духов, названий мест. Текст заиграл по-другому. Стал плавным, размеренным, я разглядела в нем природные метафоры, которые украшали повествование.
Сюжет начинается на кондинской земле, в маленьком мансийском селении Евра. Максим Картин, хранитель древнего священного места, один воспитывает детей. Жена умерла, младшему ребенку всего два года.
Евра удалена от других поселений и дорог, поэтому в ней все свои, жизнь течет плавно и спокойно.
Мирон, старший сын, просит отца отпустить его посмотреть мир. Недалеко, в земли сосьвинских манси. После раздумий Максим Картин соглашается и дает наставления:
«Не тропа ведет человека – сам он бьет тропу. Нет человека без своей тропы. <…> Протяни свой след вдогонку за собою!»
Ясно одно: роду замыкаться в себе невозможно, никто не придет на помощь в случае беды.
Люди Конды, как и Тавды, Юконды, – это часть людей Большой Человеческой Реки. Многоязыкой, многоглазой и многоголовой. Все живут Большими Законами, их создают берега, течение, земля и небо.
Мы видим, что глава семейства много где бывал: у назымских и казымских, кодских и березовских хантов, ненцев, в землях сосьвинских манси. Обучил сына всему, что умел: с десяти лет Мирон начал ходить с отцом на охоту с луком и стрелами. Молодому охотнику уже 20, пора строить свою жизнь.
Мирон вернулся нескоро, с молодой женой Апрасиньей. Она отличалась от местных: широкоплечая, с мерцающим, как звездное небо, чуть скуластым лицом с раскосыми глазами. Чувствовалась в ней властность, красота и здоровье, сила.
Старший Картин был удивлен. Откуда жена? Почему не заплатили калым за нее? Не хотелось навлечь беду на род или поругаться с соседями.
Оказалось, что Апрасинья рано осталась без родителей, и воспитывал ее дальний родственник, шаман. Научил слушать лес, распознавать травы, делать чудодейственные сборы. Держал девушку в ежовых рукавицах, хотел ее выгодно выдать замуж, нашел жениха с хорошим калымом.
Апрасинья выросла свободолюбивой и решительной, слушала свое сердце. Она нашла Мирона умирающим в зимней тайге, отнесла его в избушку, поставила на ноги. Они полюбили друг друга, но богатого калыма у молодого охотника не было. Да и до свадьбы осталось совсем немного времени. Однако оба твердо решили быть вместе.
Шаман Волчий Глаз отказался отдать девушку Мирону. На глазах у влюбленного его женщину должны были взять в жены… Смириться с этим невозможно. И кровопролития не избежать. Кто-то должен умереть во имя любви. Законы тайги суровы.
Апрасинья поразила меня бесстрашием. Она одинаково настойчиво спорила и с шаманом, и со старшим Картиным. Не боялась задавать прямые, неудобные для евринской женщины вопросы. Отстаивала свою точку зрения. При этом относилась с уважением к старшим и к мужу. Была отличной рукодельницей и хозяйкой, многому обучила братьев и сестер мужа. Сама хотела ходить на охоту, как сосьвинские женщины. У нее открытый взгляд на мир. Не случайно она стала называться Матерью Матерей в селении.
В романе ярко показано столкновение культур манси, проживающих далеко друг от друга. Несмотря на то, что они один народ, их обычаи отличаются, и в разговоре «как в чистом песке, попадают круглые гальки чужих, непонятных слов». Апрасинья постепенно принимает их, хотя многого и не понимает.
Взаимодействуют Картины и с Большой Человеческой Рекой. Ездят на ярмарки, обменивают пушнину на предметы быта и оружие. Однажды в Евре поселяются беглые каторжники. Жители не выгоняют их, а дают обжиться. Вскоре одного из них женят на местной девушке.
Этот роман для меня стал историей про гармонию человека с окружающим миром. Жители тайги адаптируются ко всему, не теряя своей идентичности. Уважают природу, принимая ее дары. Переплетают сказки, легенды и реальность. Действительность, в которой живут люди Евры, точно полноводная река, на дне которой сверкают яркие камешки. Если погрузитесь в повествование достаточно глубоко, вам удастся проникнуться самобытностью, взглядом манси на жизнь, разглядеть интересные детали, которые подсветили авторы: приметы, эпитеты и метафоры, бытовые особенности.
Советую читать «И лун медлительных поток…» вдумчиво, заглядывать в словарик, посвятить время чтению в тишине. Уверена, после такого времяпрепровождения вам захочется бывать на природе чаще.
А прочитать книгу вы можете в отделе краеведческой литературы и библиографии на 3-м этаже.